К явлению образа города в художественном тексте и вопросу переводимости городского текста
Что такое городской текст и поддается ли он переводу? Как при переводе может измениться смысл и при чем здесь фоносемантика? В статье мы ответим на эти вопросы, проанализировав цикл М. И. Цветаевой «Стихи о Москве» и его перевод Э. Файнстайн.
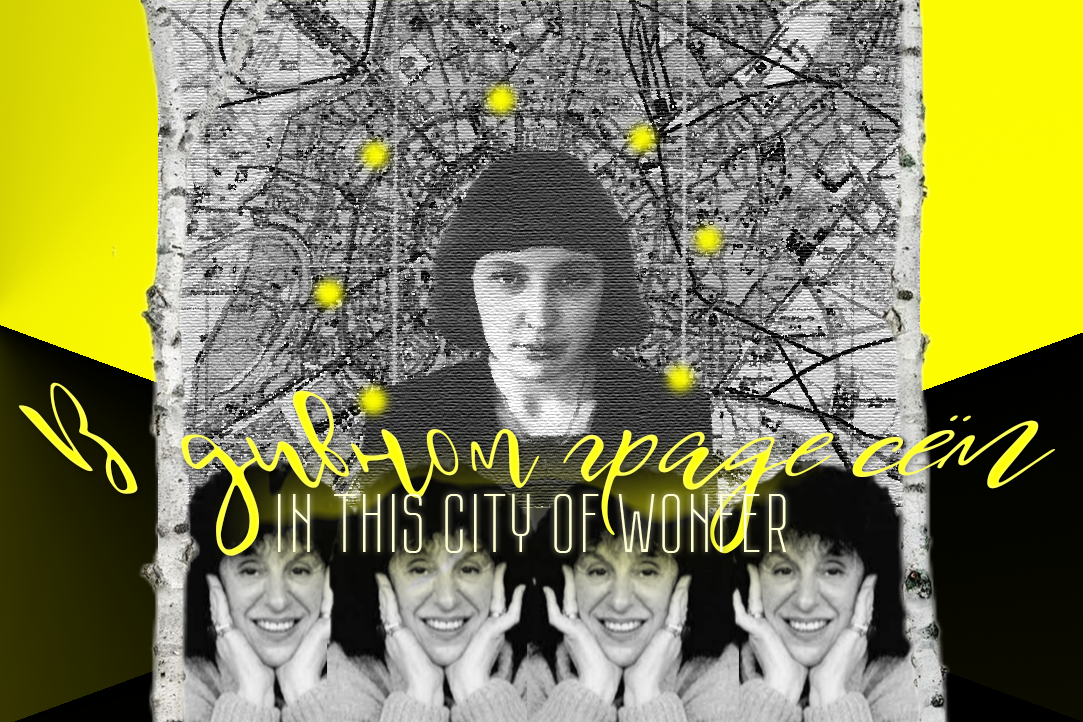
Городской текст в литературе
Образы можно рассматривать как важнейшие элементы художественного текста, так как именно на уровне образов в итоге запоминается его содержание. В. Е. Хализев пишет, что образы — это «конкретные представления, т.е. отражение человеческим сознанием единичных предметов (явлений, фактов, событий) в их чувственно воспринимаемом обличии» [1]. Образам исследователь противопоставляет «абстрактные понятия» [2], то есть что-то общее и неспособное передать особенности описываемого предмета. К примеру, яркой образностью обладает городской текст, в котором авторское восприятие города отражается через синтаксические средства и средства художественной выразительности.
В литературе образ города по Лотману выступает отдельной категорией пространства и «несет в себе закрепленную в социальных знаках информацию о разнообразных сторонах человеческой жизни» [3]. К примеру, разбирая петербургский текст в русской литературе, В. Н. Топоров пишет: «в петербургском тексте Петербург выступает как особый и самодовлеющий объект художественного постижения, как некое целое единство» [4]. В каких-то случаях город становится «общим местом» [5], в каких-то тексты о нём имеют «следы личного, “приятственного” и вполне конкретного знакомства с городом» [6]. Говоря о структуре петербургского текста, Топоров отмечает: «Как и всякий другой город, Петербург имеет свой “язык”» и представляет собой «гетерогенный текст» [7]. Топоров также пишет и об «аллегоризирующем мифе» [8], термине актуальном для дальнейшего разговора о Москве. К тому же важно, что «особое значение для Петербургского текста имеет субстрат духовно-культурной сферы — мифы и предания, дивинации и пророчества, литературные произведения и памятники искусств…» [9].
Таким же образом конструируется городской текст Москвы, в котором знаковость художественного пространства в силу своих особенностей вбирает в себя больше, чем может быть показано на самом деле.
«Стихи о Москве» как пример городского текста
Цикл Марины Цветаевой «Стихи о Москве» — яркий пример городского текста. При конструировании образа Москвы важным для поэтессы оказывается воспроизведение топоса города. Уже в первом стихотворении цикла обращается внимание на «широту» Москвы и множество её церквей, так как религиозность оказывается одной из характерных особенностей городского образа: «Облака — вокруг, / Купола — вокруг». Москву лирическая героиня называет «привольным семихолмием» [10], что демонстрирует связь образа города с легендами и преданиями — согласно московскому аллегоризующему мифу, город строили на семи холмах.
В цикле описываются реальные места на карте Москвы: упоминаются Ваганьковское кладбище, «Спасские — с цветами — ворота» [11], Иверская икона, Калужская дорога. Так, конкретные места делают образ города «цельным» и узнаваемым, вступая в диалог с читателем посредством действительно существующих объектов. Преданность поэтессы Москве подкрепляется с помощью мортальных мотивов. Лирическая героиня в первом стихотворении предрекает себе «вольный сон» на Ваганьковском кладбище как закономерный исход своей жизни. В четвёртом стихотворении детально описывается день её похорон. «Новопреставленную болярыню» [12] в гробу непременно должен провожать московский народ, что ещё раз утверждает связь Москвы с субъектностью лирической героини и отсылает к цветаевским рассуждениям о чтении от лица города.
При создании образа Москвы М. И. Цветаева использует эмоционально окрашенную и принадлежащую к высокому стилю устаревшую лексику («В дивном граде сем, / В мирном граде сем» [13], «Ты постом говей, / Не сурьми бровей» [14]), что позволяет поэтессе утвердить связь города с его прошлым. Далее мы рассмотрим, какой изображена Москва в интерпретации Элейн Файнстайн, и выявим различия, которые делают Москву в этом переводе непохожей на изначально описанный Цветаевой город.
Москва в переводе Файнстайн
Известно, что для Файнстайн Цветаева — личность, с которой она чувствовала особую связь. Выполнившая перевод нескольких десятков цветаевских стихотворений, Элейн Файнстайн известна также как автор биографии поэтессы на английском языке. По словам переводчицы, стихи Цветаевой помогли ей в раскрытии собственной субъектности. В одном из интервью Файнстайн признаётся: «И, когда я нашла Цветаеву, я была очень взволнована — казалось, у неё есть всё, что мне нужно. У неё была эта страсть, эта уверенность, которую она вкладывает в стихи, цельность самодостаточности» [15].
В предисловии к изданию цветаевских стихотворений в своей интерпретации Файнстайн упоминает, что она осуществляла поэтический перевод с опорой на подстрочный. Там же она называет Цветаеву труднопереводимым поэтом, признаваясь, что нелегко передать манеру поэтессы с её неповторимыми особенностями: «Любой перевод труден, Цветаева — особенно трудный поэт. Ни один подстрочный перевод не смог уловить её страстный, стремительный поток» [16].
Некоторые из стихотворений Цветаевой, переведенных Файнстайн, так или иначе связаны с «русскостью», характерной для творчества поэтессы. Среди них — «Тоска по родине! Давно…», «За девками доглядывать, не скис…» и цикл «Стихи о Москве». При сравнении оригинала и перевода самыми заметными зачастую становятся трансформации, произошедшие на семантическом уровне. Это связано с тем, что в одном языке могут присутствовать лексемы, полное значение которых крайне трудно передать при переводе. Трансформации, вызванные неполнотой соответствия некоторых переводимых слов их аналогам в ином языке, способны сильно повлиять на восприятие образа читателем.
Рассмотрим первое стихотворение из цикла: «Облака — вокруг…». В нём используется слово «град», которое поэтесса многократно использует по отношению к Москве в этом цикла. Употребление старославянского неполногласия могло быть продиктовано не только стремлением соблюсти ритм, но и попыткой подчеркнуть связь города с древними обычаями и традициями, в том числе церковными. Это соотносится с наблюдениями Топорова, заметившего, что «Москва <…> имеет притязания на прошедший быт, на мнимую связь с ним» [17]. О том же самом может говорить употребление устаревшего прилагательного «дивный», примененного в отношении Москвы. Элейн Файнстайн воспроизводит эти лексемы таким образом: «In this city of wonder» [18]. Слово «wonder», как правило, означает удивление от чего-то увиденного или пережитого впервые [19], в то время как «дивный» передаёт скорее закрепившееся отношение к предмету. Переводчица употребляет нейтральную лексику, не позволяющую иноязычному читателю в полной мере увидеть заложенную автором образность.
В этом же стихотворении Цветаева использует слово «говеть», употребляемое в православии и имеющее религиозную окраску. Согласно старославянскому словарю, говение — это «набожность, благочестие», а говеть означает «быть набожным, богобоязненным» [20]. Файнстайн переводит «говеть» как «fast in Lent» [21], понятное англоязычному читателю и употребляющееся по сей день в том числе католиками и протестантами. Это способствует возникновению очередной трансформации: англоязычный читатель не улавливает в полной мере связи Москвы с православием, которую демонстрирует Цветаева.
Также интересно обратить внимание на слово «нерукотворный», употребимое в христианстве и относящееся к высокому стилю [22]. Нерукотворными называются предметы, сделанные без участия человека — среди них Спас Нерукотворный, аллюзию на который здесь можно проследить. Словосочетание «city no hands built» [23], которое использует Файнстайн, чётких ассоциаций с христианством не вызывает.
Рассмотрим трансформацию изображённых Цветаевой образов в седьмом стихотворении цикла «Семь холмов — как семь колоколов!..». В нём появляются образы двора и знахарки — женщины, являющейся лекарем-самоучкой. «Знахарку со двора соседнего» [24] Файнстайн обозначает как «soothsayer in the neighboring house» [25]. Эту строку можно перевести как «предсказатель из соседнего дома». Здесь снова теряется связь Москвы с русскими народными традициями. Знахарство, ранее распространённое в России, подразумевает лечение с помощью магии и не является аналогом занятиям предсказаниями.
Не так явно выражена важная для лирической героини и самой Цветаевой связь Москвы с неизбежной смертью. Призыв «Провожай же меня весь московский сброд» переведён следующим образом: «Come with me, people of Moscow, all of you» [26]. В итоге у англоязычного читателя не возникает ассоциаций с проводами в «последний путь».
К идее фоносемантики
Фоносемантика представляет собой идею о том, что каждый звук влияет на бессознательное и имеет ряд связанных с этим характеристик. В своей работе «Эмбриология поэзии» В. В. Вейдле, разбирая эту идею, утверждает: звуки, «сочетаясь по-разному друг с другом, образуют осмысленные единицы речи» [30], полагая, что поэтическая речь воспроизводится в том числе «ради самих <…> звуков, звучащих в словах, для осознающего их звучание слушателя или читателя» [31]. Также А. П. Журавлёв в своей работе «Фонетическое значение» обращает внимание на то, что «фонетическое значение не осознается носителем языка, и поэтому он не может сознательно им оперировать, тогда как лексическое значение каждый говорящий на данном языке способен истолковать» [32]. Его работа содержит табличные данные с характеристикой всех звуков русского языка.
Несмотря на критическое отношение к фоносемантике в академической среде (см., например: Розин Л., Успенский П. К критике фоносемантики // Культиватор. 2011 № 2), можно использовать некоторые её аспекты и предположить, что звуки, слышимые или издаваемые при чтении, всё же влияют на восприятие образов, содержащихся в стихах Цветаевой. Так, первое стихотворение цикла начинается со строк: «Облака — вокруг, / Купола — вокруг, / Надо всей Москвой / Сколько хватит рук!» [33]. Здесь наблюдается аллитерация — приём, не раз использованный в цветаевской поэзии. Звук «р», согласно Журавлёву, можно охарактеризовать как «грубый», «шероховатый», «угловатый», «величественный» [34]. Во всех трёх словах «р», образуя аллитерацию, сочетается со звуком «у» — везде ударным. Согласно исследованиям Журавлёва, «у» — звук большой и медленный [35]. С его помощью могут быть переданы огромные размеры города. Таким образом, уже в начале цикла поэтесса путём использования звуков «р» и «у» передаёт идею величия Москвы, задавая нужное настроение. Элейн Файнстайн переводит первые строки стихотворения так: «There are clouds — about us / and domes — about us: / over the whole of Moscow / so many hands are needed!» [36]. Эффект, который создаёт Цветаева путем повтора упомянутых звуков, исчезает.
Второе стихотворение цикла содержит следующие строки: «Из рук моих — нерукотворный град / Прими, мой странный, мой прекрасный брат» [37]. Здесь снова повторяется звук «р», развивающий образную величественность Москвы. Файнстайн переводит строки таким образом: «Strange and beautiful brother — take this / city no hands built — out of my hands» [38]. Видно, что аллитерация исчезает. Не воспроизводя многократное повторение звука, поэтесса не передает заданное автором настроение.
Аллитерация присутствует и в седьмом стихотворении цикла. Повторяется звук «л»: «Семь холмов — как семь колоколов! / На семи колоколах — колокольни / <…> / Колокольное семихолмие!» [39]. Его можно охарактеризовать как хороший, большой, сильный, красивый, гладкий, громкий, могучий [40]. В отличие от упомянутого ранее стихотворения, в котором также присутствуют колокола, здесь настроение умиротворённое, а колокола издают скорее мелодичный звук, не похожий на «гром». Это можно объяснить употреблением звука «л» — он как большой, сильный и громкий, так и гладкий, красивый. В переводе подобный звук присутствует, но не повторяется столь многократно: «There are seven hills — like seven bells, / seven bells, seven bell-towers. Every / one of the forty times forty churches, and the / seven hills of bells have been numbered» [41]. Здесь едва ли можно проследить заданную Цветаевой звукопись.
Идеи, которые развивает фоносемантика, определенно интересны: они направлены на нахождение в текстах неявных смыслов, позволяющих понять, почему произведение вызывает определённые эмоции. На примере «Стихов о Москве» можно увидеть, что звуки способны придать образу города масштаб и величие. При переводе эти особенности теряются.
Таким образом, городским может называться текст, который воссоздаёт пространство города, отражает его особенности — например, представления о величии или религиозности. В «Стихах о Москве» содержатся важные для русской культуры образы, заметно изменившиеся в переводе Элейн Файнстайн. На это повлияла семантическая разность двух языков в обозначении одних и тех же предметов, которая проявлялась не только через лексические особенности англоязычного перевода, но часто и через фонетические характеристики использованных слов.
Примечания:
[1] Хализев В.Е. Теория литературы. — М.: Высшая школа, 2004. С. 101.
[2] Там же.
[3] Лотман, Ю.М. Семиосфера. — СПб.: Искусство–СПБ, 2000. С. 399.
[4] Топоров, В.Н. Петербургский текст русской литературы. — СПб.: Искусство–СПБ, 2003. С. 9.
[5] Там же.
[6] Там же.
[7] Там же. С. 22.
[8] Там же.
[9] Там же. С. 34.
[10] Цветаева, М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. — М.: Эллис Лак. С. 268.
[11] Там же. С 269.
[12] Там же. С. 271.
[13] Там же. С. 268.
[14] Там же.
[15] Fainlight, R., Feinstein, E., Pacernick, G. Interviews with Ruth Fainglight and Elaine Feinstein. // The Centennial Review, Vol. 43, 1999. №3. P. 488.
[16] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. — XVIII. P. xv.
[17] Топоров, В.Н. Петербургский текст русской литературы. — СПб.: Искусство–СПБ, 2003. С. 17.
[18] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. XVIII. P. 8.
[19] Cambridge Dictionary [Electronic resource]. — URL: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/wonder
[20] Благова, Э., Геродес, С, Цейтлин, Р.М. и др. Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков): Около 10 000 слов — М.: Рус. яз., 1994. С. 172–173.
[21] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. XVIII. P. 8.
[22] Нерукотворный // Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999. Т. 2. К–О. С. 477.
[23] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. XVIII. P. 8.
[24] Цветаева, М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. — М.: Эллис Лак. С. 272.
[25] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. XVIII. P. 10.
[26] Там же.
[30] Вейдле, В.В. Эмбриология поэзии: Статьи по поэтике и теории искусства. — М.: Языки славянской культуры, 2002. С. 135.
[31] Там же. С. 127.
[32] Журавлев, А.П. Фонетическое значение. — Л., 1974. С. 32.
[33] Цветаева, М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. — М.: Эллис Лак. С. 268.
[34] Журавлев, А.П. Фонетическое значение. — Л., 1974. С. 46–47.
[35] Там же. С 48–49.
[36] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. XVIII. P. 7.
[37] Цветаева, М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. — М.: Эллис Лак. С. 269.
[38] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. XVIII. P. 8.
[39] Цветаева, М.И. Собрание сочинений: в 7 т. Т. 1. — М.: Эллис Лак. С. 272.
[40] Журавлев, А.П. Фонетическое значение. — Л., 1974. С. 48–49.
[41] Tsvetaeva, M. Selected Poems / translated by Elaine Feinstein. — Oxford; New York; Melbourne; Toronto: Oxford University Press, 1981. XVIII. P. 9.
Материал подготовил Владимир Кретов
Редактировала Екатерина Левина
