Согретые солнцем: 5 книг, которые сопровождали нас на каникулах
Редакция журнала вновь делится со своими читателями подборкой книг. В этот раз предлагаем вспомнить, что мы читали летом и что впечатлило нас больше всего. Где граница между собственными и чужими воспоминаниями? Когда сомнения и неуверенность героя могут стать стержнем повествования? Как переживается людьми личная и общечеловеческая катастрофа? Об этом и многом другом читайте в новом материале наших редакторов.
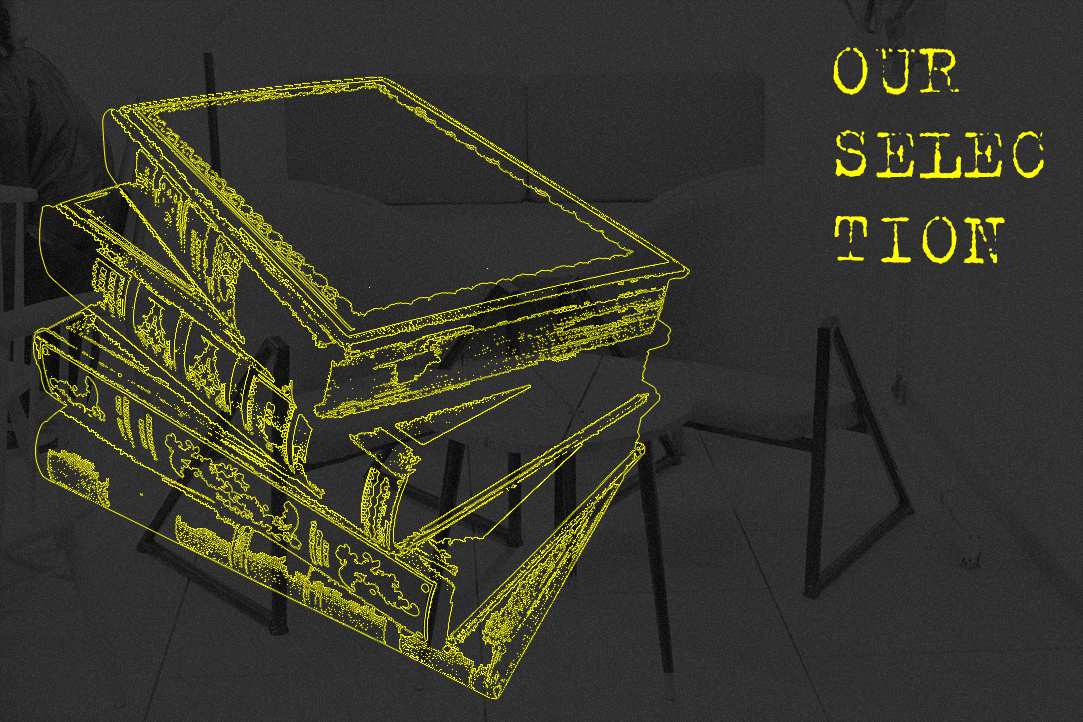
«Волшебная гора» Томаса Манна
Моё первое знакомство с Томасом Манном состоялось тоже летом — это была семейная сага «Будденброки», которая на деле оказалась совсем не тем, чем притворялась: миром не героев, но идей, борьбой старого и нового, эпическим повествованием о смене жизненных ориентиров. В этот раз я взяла в отпуск «Волшебную гору» — и не ошиблась в выборе.
На большие, медлительные произведения тянет летом — когда нет срочных дел, когда можно открывать книгу вечером, неторопливо смакуя по десять страниц, зная, что завтра ничто не помешает тебе продолжить чтение снова. Здесь важен не столько сюжет, сколько погружение в гипнотическую, медитативную атмосферу текста, терпеливое ожидание изменений в мироощущении героев, которые ты едва замечаешь по редким подсказкам автора.
«Был у нас такой, напоследок он разыграл отвратительную сцену, ни за что не хотел умирать. Тогда-то Беренс на него и накинулся. “Пожалуйста, не ломайтесь”, — заявил он, и пациент мгновенно утихомирился и умер совершенно спокойно».
«Волшебная гора» — однозначно медленное чтение. Её нельзя прочесть на одном дыхании, эти длинные философские споры и метания героев получится одолеть быстро только ни во что не вникая. Но именно здесь и кроется удовольствие — в полном погружении в магический хронотоп романа. Туберкулезный санаторий в Швейцарских горах накануне Первой мировой войны, где люди то ли выздоравливают, то ли наоборот смертельно заболевают; куда приезжают на месяц, а остаются на годы; где говорят «у нас, наверху…» и небрежно-наигранно пожимают плечами; где поглощают обильную пищу, гуляют и весело отмечают все праздники — как и там, «на равнине», а если и умирают — то тихо и незаметно, чтобы ничем не нарушить покоя товарищей по несчастью, которых, увы, вскоре ожидает то же самое. Про выздоровевших здесь ходят легенды, передающиеся из уст в уста одним санаторным «поколением» другому, и это томительное ожидание улучшения состояния, фиксация температуры пять раз в день, послеобеденное лежание и обязательная прогулка, — всё это создаёт особенный ритм проживания книги, который втягивает и тебя в мучительно-неосознанное балансирование на грани между жизнью и смертью.
И вот лето прошло, но книга не закончена. Теперь можно будет продолжить только в следующем году. Или попробуем на зимних каникулах, в загородном санатории?
Манн Т. Волшебная гора. М.: АСТ, 2021.
Татьяна Кочнева
«Игра в бисер» Германа Гессе
За два месяца было прочитано слишком много. Для меня важно, чтобы книга откликалась какому-то непонятному, стремительно ищущему выхода чувству. Одним из таких произведений стала «Игра в бисер» Германа Гессе. Мне нравится оставлять в книгах много закладок, загнутых уголков, пометок, но в этот раз страницы остались практически невредимыми. Ты просто не знаешь, что выбрать из потока мыслей, внутренних скачков главного героя от одного состояния к другому. Из особенностей книги отмечу: диалоги — это всегда разговор двух разнонаправленных сил: споры Йозефа с собой или другом Плинио, с отцом Иаковом или бывшим Магистром Игры; все пейзажи (их мало и запоминается каждый) очень кинематографичны: взгляд снизу на библиотечные своды храма или окинутые взглядом равнины после долгого пути вверх; отсутствие времени для героя — сам Йозеф начинает исчислять дни годами, месяцы десятилетиями, и потеря в этом же времени самого читателя; это абсолютно мужской (единственной женщиной в романе является жена Дезиньори, которая появляется лишь на нескольких страницах), но не маскулинный мир. «Бисерность» романа аргументирована не только внешней стороной, но и на уровне жанрового разнообразия, и семантической игры имён, переключения с нудных говоров магистров на монашеское безмолвие. Сюжет линейный, но ключ ко всему роману находятся в самом конце — в «Сочинениях, оставшихся от Йозефа Кнехта». Рассуждая о книге постфактум, я начала находить сходства с нашим «Доктором Живаго» — простота фабулы (эсхатологическое путешествие в обоих случаях) и весь роман написан как комментарий к главному, к тому, что скрыто и найдено случайно — к стихам.
«Ты не любишь весёлости, вероятно, потому, что тебе пришлось идти дорогой печали, и теперь всё светлое, хорошее кажется тебе пустым и ребяческим, да и трусостью, бегством от ужасов в ясный, упорядоченный мир».
Йозеф Кнехт очень близок читателю, когда говорит о своей цели учительствовать, он представляется таким наивным и близким нам, но в этой наивности его сила и строгость. Как ни странно его субъективным стержнем и стержнем всего повествования является сомнение и неуверенность в собственных силах и в будущем. «Игра в бисер» — это до смешного просто о сложном и трагичном. И обязательно прочтите до конца, последние три новеллы того стоят.
Гессе Г. Игра в бисер. М.: АСТ, 2022.
Александра Костина
«Чернобыльская молитва» Светланы Алексиевич
Я давно хотела взяться за «Чернобыльскую молитву», но понимала, что предстоит непростое чтение. Это не журналистское или научное исследование, а монологи людей, переживших эту трагедию. Светлана Алексиевич лично беседовала с каждым очевидцем и участником, а потом эти разговоры были переработаны в связные рассказы. Подобный формат позволяет проникнуться судьбой конкретного человека.
«Такого же никогда не было, чтобы люди не возвращались домой».
В книге слышны голоса ликвидаторов, жён погибших солдат, а также учёных, жителей причернобыльской зоны и даже детей, чьи объяснения случившегося особенно трогают. Одни герои книги предпочитают спасаться мыслью о совершённом подвиге, другие же стремятся обличить советскую систему в её растерянности и единственном желании «сохранить лицо».
Разворачивается катастрофа не только для людей, которые после 26 апреля стали особенными для всех окружающих, но и для животных, природы, вещей — всего того, что пришлось оставить в прошлом. Разрушается вся привычная жизнь «до». Произошедшее становится не просто историческим или политическим спором, а множеством личных, и потому близких, человеческих историй.
Алексиевич С.А. Чернобыльская молитва. Хроника будущего. М.: Время, 2020.
Ирина Летуновская
«Город воспоминаний» Орхана Памука
Эта книга была прочитана мной совершенно случайно. Придётся начать несколько издалека. Летом я решила поехать в Турцию, в которой никогда не была и про которую ничего не знала. Моя подруга, влюблённая в эту страну уже несколько лет, первым делом посоветовала прочесть книгу Орхана Памука «Город воспоминаний». Через несколько дней другая моя знакомая узнав, что я еду в Стамбул, при встрече предложила одолжить мне книгу об этом городе — и привезла мне «Город воспоминаний». Я решила, что в таком случае мне точно нужно прочитать это произведение. Впервые я раскрыла эту книгу во время путешествия на пароме от Стамбула до островов, на которых я должна была жить — под крики чаек, шум волн и восточную музыку, которую играли проезжающие рядом музыканты. Это произведение оказалось не путеводителем по Стамбулу и окрестностям, какой я её представляла, а скорее признанием городу в любви через рассказы о взрослении Памука. Она состоит из разрозненных историй о семье автора, о привычках стамбульцев, особенностях города.
Книга раскрывает Стамбул не через его достопримечательности, а через обыденность и то, что приезжему не показалось бы достойным внимания — в стиле Школы Анналов.
В окружении всей этой среды мне казалось, что я понимаю каждое слово автора, что я местная и что здесь моё место. Конечно же, по мере того, как я всё глубже и глубже знакомилась со Стамбулом, его обычаями и обитателями, мне открывались новые смыслы текста и новая «выпуклая радость узнавания» определённых турецких районов. В итоге эта книга не только помогла сделать мою поездку в Стамбул более осмысленной, но она превратила её в бесконечное путешествие: стоит мне открыть какую-либо страницу «Города воспоминаний», как я погружаюсь уже в свои воспоминания о том, как я читала её на улицах города.
Памук О. Город воспоминаний. М.: КоЛибри, 2017.
Анна Матвеева
«Семь смертей Эвелины Хардкасл» Стюарта Тёртона
Эта книга ждала своего часа практически год, совершила несколько путешествий на поезде туда и обратно, оставалась то на одной книжной полке, то на другой, но я всё не решалась за неё взяться, пока наконец не наступило долгожданное лето, и мне никуда не надо было спешить. В итоге история захватила меня на два дня, включая бессонную ночь, о которой я не жалею.
«Истинная сущность человека яснее всего проявляется тогда, когда он думает, что его никто не видит».
По сюжету главный герой приходит в себя посреди леса и обнаруживает, что совершенно не помнит о том, что же с ним произошло. Более того, он едва ли уверен в собственной личности: мысли, чувства и внезапно нахлынувшие воспоминания кажутся ему чужими. Постепенно ситуация проясняется, а наш герой оказывается заложником временной петли, в которой раз за разом происходит убийство Эвелины Хардкасл — дочери главы имения Блэкхит, где собираются гости на предстоящий бал-маскарад по случаю её помолвки. Каждый раз герой просыпается в теле одного из тех, кто так или иначе связан с убийством, и вынужден вновь и вновь проживать один и тот же день. Чтобы выбраться ему необходимо назвать имя убийцы, но, если этого не происходит за восемь обличий, он теряет память и возвращается к началу. Дело осложняется тем, что некто пытается убить его прежде, чем он сможет найти ответ.
Меня привлекают подобные герметичные детективы, когда убийство происходит в закрытой комнате, на острове или, как в данном случае, в отдалённом поместье, что сужает круг подозреваемых и позволяет изучить каждого. Такие истории прежде всего о непростых взаимоотношениях между людьми и уже потом о трагедиях, к которым они приводят. К сожалению, развязка меня несколько разочаровала, но в целом получилось атмосферно, запутанно и свежо. Эта история — неплохая головоломка в стиле Агаты Кристи с изрядной долей фантастических допущений. А ключ к разгадке в известной всем фразе: «Всё не то, чем кажется». Надеюсь, получилось без спойлеров.
Тёртон С. Семь смертей Эвелины Хардкасл / пер. с англ. А. Питчер. СПб.: Азбука-Аттикус, 2018. Т
Екатерина Кисляк
Материал подготовили Татьяна Кочнева, Александра Костина, Ирина Летуновская, Анна Матвеева, Екатерина Кисляк.
Редактировал Андрей Орлов.
