Хоррор по-советски
Древние сказания, замок с привидениями, загадочные убийства и атмосфера безумия — то, что нужно любителям фильмов ужасов. А что если добавить к саспенсу классовый антагонизм? О таком неожиданном сочетании в фильме «Дикая охота короля Стаха» читайте эссе Олега Ларионова, открывающее серию статей о советском кино.
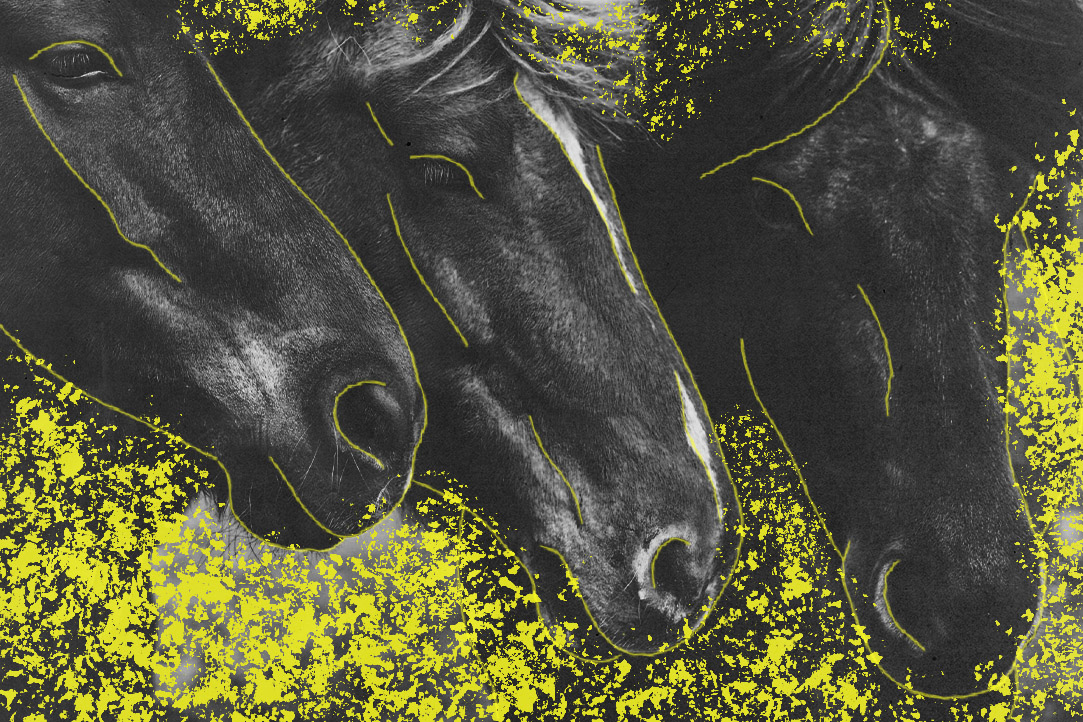
Фильмы ужасов обычно ассоциируются с западной культурой. Нельзя ли, однако, найти нечто похожее в советском киноискусстве? Официальной советской культуре с её приверженностью научно-техническому прогрессу и рациональности гораздо легче давалось фантастическое кино, обращённое к разуму, чем хорроры, работающие на уровне неподконтрольных идеологии телесных реакций и аффектов [1]. Так, в фильме Павла Клушанцева «Планета бурь» (1962), снятом в жанре научной фантастики, потенциально способная вызвать ужас сцена (где на одного из героев — учёного-космонавта — нападает инопланетное растение), никакими приёмами не программирует эту эмоцию. Влиятельная традиция интерпретации американских хорроров связывает этот жанр с устройством западных капиталистических обществ и опытом нуклеарной семьи: в монстрах можно разглядеть подавленные желания и подсознательные страхи буржуазных обывателей [2], и это ставит под сомнение возможность существования жанра в социалистических странах. Тем не менее, элементы хоррора встречаются в советском кино — например, в экранизации «Вия» или в фильмах о Шерлоке Холмсе. Наконец, образцовым советским фильмом ужасов может считаться «Дикая охота короля Стаха» (1979) Валерия Рубинчика.
Принадлежность этого фильма к жанру хоррора очевидна.
Детективный сюжет, включающий несколько убийств, мотивировка преступлений — стремление получить наследство; фигуры последней представительницы древнего рода и дворецкого; мотивы старинной легенды, смерти, призраков; сумасшествие, тайники, полузаброшенный старинный замок как место действия — всё это общие места восходящей ещё к XVIII веку европейской литературной и, позже, кинематографической традиции готики, мистики, «тайн и ужасов».
Помимо прочего, загадочная и жуткая атмосфера создаётся в фильме суггестивной музыкой и звуками, повторяющимися сценами с участием непонятных для зрителя и главного героя людей — пробегающей женщины в платье и проходящего по стеклянной крыше человека, — а снятые крупным планом эмоции героев заражают и зрителя. На протяжении всего фильма зрительскую реакцию определяет и внутреннее пространство дома: отдельные помещения, лестницы и переходы плохо связываются друг с другом и не собираются в единую картину, свет и тень резко контрастируют, освещённые островки растворяются в окружающем мраке. Часто камера снимает героев не прямо, а через несколько препятствий (выдающийся край мебели, рама, дверь, свеча); в некоторых сценах показываются только лица героев, а не их общее расположение в комнатах. Соприродным всему этому оказывается возникающее ощущение запутанности, фрагментарности, потерянности, неясности. Наконец, сцены убийств, трупы, появления предполагаемых призраков, крупные планы черепов животных, эпизоды погони за героями или их испуга откровенно атакуют чувствительность зрителя.
Если все эти мотивы и приёмы объединяют фильм с американскими хоррорами (ср., например, заброшенный дом, тему семьи, безумие, погоню, данные крупным планом артефакты из черепов и костей в близкой по времени «Техасской резне бензопилой», 1974), то некоторые черты позволяют говорить о «Дикой охоте» как о специфически советском явлении. Тогда как культурная продукция буржуазных капиталистических стран, если следовать традициям марксистского анализа, маскирует своё социальное измерение, подменяет разговор о коллективном разговором о частном и пропитывается политическим бессознательным, которое выводится на свет в процессе анализа критиком.
В СССР, стране господствующей марксистской идеологии, хоррор сам выявляет социальный подтекст своих ужасов.
В лице бывшего студента Андрея Светиловича в фильм вводится столь знакомая советскому кино (например, по «Юности Максима», 1935) тема революционно-демократической традиции, бросающей вызов старому порядку. Сначала студент-революционер, а позже и владелица замка Надежда Яновская объявляют терроризирующую нищих местных жителей призрачную дикую охоту метафорой угнетения, воплощением несправедливого общественного устройства, что превращает хоррор в аллегорический комментарий к классовому антагонизму.
Преступления, совершаемые в беларусской глуши паном Дуботовком, в концентрированном виде выражают суть всей Российской империи, и эта генерализация в фильме последовательно обосновывается. Полиция не стремится расследовать убийства, скорее видя своим врагом революционно настроенного студента, а один из чиновников, которого посещает главный герой Андрей Белорецкий, отвечает отказом, стоя на фоне портрета Николая II и как бы отождествляясь с ним (что дополнительно подкрепляется одинаковыми причёсками и бородами чиновника и императора). Чиновник ссылается на строчку из «Гамлета»: «Неладно что-то в Датском королевстве». Фильм настаивает на своей социально-политической аллегоричности как визуально, так и вербально.
Закономерным образом ближе к финалу случается коллективный крестьянский бунт против помещиков, увенчавшийся убийством Дуботовка и поджогом его усадьбы. Арест Белорецкого лишь отчасти омрачает финал фильма. Происходит полная рационализация таинственных и ужасных явлений, «расколдовывание мира», приведшее к объяснению и социальной локализации зла. Надежда, едва не сошедшая с ума в наследном замке буквально по формуле Маркса: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых», — отказывается от своего прошлого и класса, становясь соратницей арестованного за подстрекательство к бунту Андрея. Жуткое чучело с черепом животного больше не страшно и растворяется в снежной пелене. Спутник героев напоминает, что сегодня — первый день XX века, и на последних кадрах проносятся лица нищих крестьянских детей, на чьих глазах случился бунт. Они смотрят на то, как власти арестовывают и увозят пожалевшего и спасшего их человека. Точная датировка событий позволяет сосчитать, сколько этим детям будет к 1917 году, и окончательно вписать фильм в революционную темпоральность.
Однако киноязык «Дикой охоты» складывается и из других элементов, которые осложняют и отчасти подрывают такое прочтение, сообщая фильму характерные для жанра хоррора амбивалентность и двойничество [2, с. 14–15]. Источники страха в фильме рассредоточены так, что граница между жертвами и виновниками размывается. Если дикую охоту организует Дуботовк, то два других таинственных явления, воплощающие старинные легенды и ужасающие главного героя и зрителей, — маленький человек и голубая женщина — с ним не связаны. Первый — карлик — брат управляющего, который влюблён в Надежду, он стремится, пугая, свести её с ума — так в фильме демонстрируется связь между хоррором и подавленной сексуальностью; вторая — это Надежда Яновская.
Рушится и оппозиция между современным и архаичным (традиционным). Воплощённое в институте полиции модерное государство поддерживает рядящегося в доспехи феодала, который, впрочем, как и управляющий, вызывает страх с помощью продуманных, практически научных манипуляций, рационально программирующих нужную эмоциональную реакцию. Белорецкий — этнограф, который приехал изучать фольклор, и Светилович, революционно настроенный студент, — агенты Нового времени, с подозрением относящиеся к народным «суевериям». В первую ночь в замке Белорецкий и зрители с ужасом наблюдают традиционный обряд, проводимый служанкой над Надеждой, — на этом этапе обе героини вызывают глубоко настороженное отношение. Однако та же народная культура, на этот раз в форме кукольного театра, выступающего перед Дуботовком, оказывается носительницей истины, завуалированно показывая убийце его преступления (упомянутая выше цитата из «Гамлета» побуждает провести параллель с пьесой в пьесе, которую показывают перед Клавдием и Гертрудой).
Наконец, глубоко амбивалентна фигура короля Стаха — «народного заступника», образ которого присваивает себе главный злодей и крестьянский притеснитель. Более того, один раз за Стаха принимают Белорецкого (тоже, кстати, «народного заступника»). Это делает сумасшедшая пани Кульша, чистый генератор жуткого на экране, причём сцена её ужаса, её крик, снятые крупным планом лицо и глаза, смотрящие на зрителя, не могут не заразить его аффектом. При этом зритель понимает беспричинность своего страха и смотрит на неё с точки зрения Белорецкого.
Стабильные противопоставления рушатся, и фильм оказывается насыщенным знаками, смысл которых определяется исключительно контекстом. Насколько карлик вызвал ужас при первом своём появлении, настолько перестал быть страшным, когда выяснилась его личность.
Это кино пронизано визуальными образами, не включёнными в положительную работу смыслообразования или скользящими лишь по краю значений.
Вещи и люди, живое и мёртвое оказываются субститутами друг друга, образуя странные цепочки отождествлений. В фильме много зеркал и отражений, и в одном эпизоде Белорецкий раскладывается на несколько собственных изображений. Дуботовк дарит Надежде портрет (который она уничтожит) её предка, убийцы Стаха, и платье, которое вносят как куклу — архетипический пример фрейдовского жуткого — и которое потом наденет на себя Кульша, словно навлекая на себя смерть. На переодеваниях, театральности, замещениях строится и дикая охота: её участники — соломенные чучела с черепами животных, что-то одновременно безобидно-смешное, ужасающее и искусное, сделанное, эстетическое (ср. замечания Вуда о креативности семьи каннибалов из «Техасской резни бензопилой» [2, с. 21–22]).
Этот киноязык странных соответствий, дающих в каждой силовой точке фильма мощный выплеск аффектов, плохо соотносится, однако сосуществует, с целенаправленностью сюжета и социально-политического вывода. Фильму удаётся зависнуть в промежутке, позволяющем удерживать и свободу, многозначность, неприрученность воздействующего на зрителя визуального ряда, и не скатывающийся в плоскую плакатность социальный смысл. В двух словах это неожиданное сочетание и можно назвать советским хоррором.
Эссе Олега Ларионова.
Редактор Елизавета Шафранская.
Примечания
[1] — Грант Б. К. «Совершенствование чувств»: Разум и визуальное в фантастическом кино // Фантастическое кино. Эпизод первый. М., 2006. С. 19–31.
[2] — Wood R. An Introduction to the American Horror Film // American Nightmare: Essays on the Horror Film. Toronto, 1979. P. 7–28
