«Когда молчим, мы неприятны, <...> когда говорим — смешны»: травма в романе Герты Мюллер «Сердце-зверь». Часть 1
Как собрать воедино разрозненные фрагменты вытесненных воспоминаний? Как, добавляя всё новые контексты и ассоциации, размыть художественный образ до непознаваемости? На примере романа Г. Мюллер «Сердце-зверь» рассмотрим главные вопросы конструирования травматического текста.
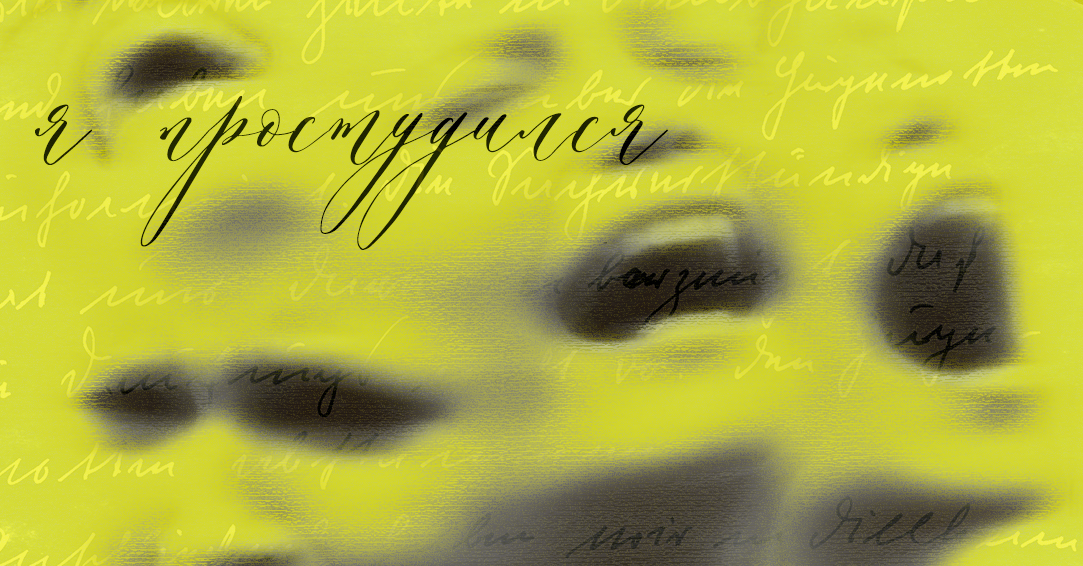
«Сердце-зверь» — роман о попытке выживания в тоталитарном режиме Чаушеску в Румынии 1980-х годов. Нарратор — девушка, обучающаяся на переводчицу. Её соседка по комнате в общежитии Лола кончает с собой и подкидывает свой дневник рассказчице. Эта смерть объединяет главную героиню с тремя студентами из мужского общежития: Куртом, Георгом и Эдгаром. Все они подвергаются преследованию, допросам и угрозам капитана Пжеле. После окончания университета друзья разъезжаются работать: рассказчица — переводчицей инструкций на фабрике, Курт — инженером на скотобойне, Георг и Эдгар — учителями в промышленных городах. Нарратор несколько раз пытается покончить с собой, утопившись в реке, но так и не находит в себе смелости. Потом она влюбляется в Терезу, дочь бывшего начальника фабрики.
Позднее всех друзей, кроме Курта, увольняют по политическим причинам. Рассказчица старается заработать частным преподаванием, Георг переезжает к Курту, а после избиения и больницы — к родителям Эдгара. Тогда же он подаёт прошение о выезде. Спустя время ему удаётся покинуть страну (что казалось невозможным, и уже убило множество людей), но скоро он выбрасывается из окна. Эдгар и нарратор с матерью тоже покидают Румынию. В Германии рассказчицу навещает Тереза. Она делает дубликат ключей от квартиры главной героини и записывает адрес для капитана Пжеле. Нарратор раскрывает предательство, прогоняет возлюбленную, обрывая связь, из-за чего потом страдает. Позднее Тереза умирает от разросшейся опухоли. Курт, снявший зверства на скотобойне, вешается. В финале, который является и первой сценой романа, рассказчица и Эдгар сидят на полу и рассматривают снимки, сделанные Куртом, где, помимо прочего, запечатлён и капитан Пжеле.
Изучение травматического опыта — междисциплинарная задача, решение которой осложняется множеством проблем: от «ускользающего» объекта анализа до недостоверности имеющихся сведений. Рассмотрю проблему выражения травмы на примере романа «Сердце-зверь» (1994) лауреата Нобелевской премии по литературе 2009 года Герты Мюллер. Это произведение — не прямое свидетельство, а художественный текст, хотя и с автобиографическими элементами. Стоит держать в голове фикциональную природу анализируемого романа. Историческим фоном и одновременно травмогенной средой выступает тоталитарная Румыния 80-х годов в период диктатуры Чаушеску. Жёсткий политический режим со всеми ограничениями и гонениями подавляет волю, сеет смерть и калечит выживших: «Этот мир никого к себе не ждал, думала я. Зачем мне ходить, есть, спать, кого-то любить — в страхе» [1].
Здесь вплотную подхожу к центральной проблеме при описании травмы — её невыразимости. Остановлюсь на трёх аспектах, объясняющих невозможность вербализовать пережитый опыт: проблема объекта, языка и субъекта. А в конце второй части обращусь к сфере визуального и технической фиксации как возможным способам «вырваться» за рамки невыразимого опыта.
Проблема объекта: Болезненная природа травмы
Травмой З. Фрейд называет «ранее пережитые и позднее забытые впечатления» [2]. Вытесненные из-за невыносимой тяжести и невозможности принятия воспоминания возвращаются после инкубационного периода. Они трансформируются и являются в форме флешбэков, кошмаров и неосознанно повторяемых паттернов поведения. В романе это выражено на нескольких уровнях.
Во-первых, композиционно текст фрагментарен. Повествование дробится на осколки, рассказчица резко переключается между настоящим, воспоминаниями из прошлого, кошмарами будущего. Не всегда с первых слов ясно, говорится ли о том же событии, что и предложение назад, или это флешбэк; реально ли происходящее или это пугающая фантазия ребёнка.
Во-вторых, на психологическом уровне герои склонны повторяться и бесконечно воспроизводить прошлое. На встречах Лолы с мужчинами в парке «Листья шелестели <...> так же, как когда-то давно над головой полугодовалого ребенка, шестого в семье, нежеланного, нужного разве только самой нищете» [3]. Травматическое прошлое настигает и в форме «видений»: «После смерти Лолы никаких языков и почек в холодильнике уже не лежало. Но я их видела и чуяла. И я представила себе прозрачного человека, стоящего перед открытым холодильником. Этот прозрачный болен и, чтобы продлить свои дни, крадёт внутренности здоровых животных» [4]. Некоторые герои страдают от ПТСР после войны, а государство использует страх ретравматизации как рычаг управления. Особенно выразительно это в аллегорической сцене с лошадью: «…молодую лошадь страшно избивают, и она помнит эти кисти на кнуте. Потом такие же подвешивают у неё перед глазами. Лошадь в страхе бежит что есть мочи» [5].
В-третьих, на протяжении всего романа повторяются одни и те же образы (сливы, зубы, пальцы, пуговицы и т.д.), обрастая всё новыми значениями. Художественные детали становятся метафорами, расширяются, как круги на воде, наплывают друг на друга, превращаясь в неразделимое целое. Новые контексты одновременно раскрывают дополнительный смысловой слой образа и замутняют понимание. Текст с протянутыми сквозь него нитями повторов становится как будто целостным, но при этом дробным и непознаваемым.
В-четвёртых, по несколько раз повторяются целые пассажи. Это создаёт замкнутый мир неизбежности. Невозможно вырваться за рамки тоталитарного режима, невозможно пересоздать раненую душу, невозможно высвободить подлинный логос. Зацикленность выражается и в кольцевой композиции. Начальная и финальная фразы совпадают: «Когда молчим, мы неприятны, — сказал Эдгар, — когда говорим — смешны» [6]. С одной стороны, дойдя до конца, читатель лучше понимает заложенную в приговоре боль. С другой стороны, проблема невыразимости столь же остра и неразрешима в конце, как и в открывающих страницах. Находящийся между рефренами текст — заведомо неуспешная попытка проговаривания травмы.
Проблема языка: Невозможность высказывания
В романе Герты Мюллер параллельно существует множество «языков»: витиеватая образность Лолиного дневника, «пустотелая» институциональная пропаганда, идилличность бабушкиных колыбельных, сплетни обозлённого народа, внутренний шифр главной компании для переписки, свободный слог книг из внешнего «мыслящего» мира, терминология инструкций по эксплуатации машин, безыскусная протестная ругань и изобретательные обзывательства-самозащита. И несмотря на это, травма так и остаётся неуловимой для логоса. Её невозможно артикулировать.
Предпринимаются разнонаправленные попытки, и все перечисленные «коды» вроде приближаются к запечатлению и рефлексии ужасного опыта, однако остаётся почти материально ощутимая неполнота и зияющая пустота. Будто кто-то невидимый пытался собрать мозаику из осколков разных картинок. Более того, каждый из «языков» при более близком рассмотрении доказывает собственную несостоятельность, ложность и/или беспомощность. А временами они «сбивают» друг друга.
Дневниковые записи Лолы — окно для рассказчицы и трёх её друзей к пониманию позиции жертвы. Однако этот рассказ слишком личный, и язык чужд для читателей, поэтому по-настоящему осознать написанное Другим невозможно. Это окно — мутное стекло, через которое просвечивают миражи. Непреодолимая граница между свидетелем и травмой выражается в невозможности разгадать язык Лолы. Рассказчица старается вытвердить тетрадь наизусть, чтобы приблизиться к пережитому девушкой, однако текст остаётся далёким и занимает шаткое положение в сознании, отличном от породившего его: «Когда Лолины слова и фразы прорастали в моей голове, я даже дышать старалась неслышно, чтобы не спугнуть их другими словами и фразами — из книг летнего домика» [7].
Вообще всё множество «языков», конструирующих мир романа, можно разместить на двух полюсах: официальный партийный дискурс и всё остальное. Вторая группа функционирует как протест. Чаще всего бессильный повлиять на действительность, однако значимый для несогласных.
Упомянутые книги летнего домика — один из таких протестов. Главная компания с жадностью читает их и с осторожностью прячет. Это весточка извне страны-тюрьмы, контакт с миром разумным и надежда. Написаны ввезённые контрабандой книги на языке свободы: «это был не государственный язык страны <...>, не детский, вечерний, колыбельный язык наших деревень. В книгах жила наша родная речь, но не деревенская затхлая тишина, что глушит всякую мысль» [8].
Бунтом можно считать и ругань Терезы. На торжественном собрании, где героиню должны были принять в партию, Тереза встала для речи и начала браниться, выражать ненависть к присутствующим. Однако внешне она выглядела спокойно: «Я улыбалась и они сначала подумали, что я благодарю партию» [9]. Режим построен на подконтрольности и предсказуемости поведения граждан. Такой откровенный протест даже считался не сразу из-за обманчивости внешних признаков. Это доказывает «пустотность» государственного языка. Его слова и выражения ничего не значат. Этот язык — скорее рудимент, чем действительно функциональное средство коммуникации, ведь та подразумевает создание новых смыслов, что считается непозволительным в тоталитарном режиме. И тем не менее такая резкая выходка «сходит с рук» героине из-за статуса отца. Её бунт ни к чему не приводит.
Против системы направлен и шифр, изобретённый друзьями для переписки. Всем известно, что корреспонденция вскрывается и читается, поэтому нужен обходной путь сообщения о важном. Этот язык узко функционален, ограничен: «Упоминание о ножницах для ногтей будет означать, что вызывали на допрос. Ботинки, туфли и прочая обувь — это обыск, а если слежка за тобой на улице, пишем: “Я простудился”. В начале письма ставим после обращения восклицательный знак. А если грозит смертельная опасность, ставим после обращения не восклицательный, а просто запятую» [10].
На первый взгляд, этот код срабатывает, он не сообщает скрытых смыслов чужим: «Запятая не проговорится, когда капитан Пжеле будет читать письма <...>. Но когда письмо вскроют Эдгар и Георг, запятая будет криком кричать» [11]. Однако ограниченность и механистичность подобного языка играет с «носителями» злую шутку: встреченные вне контекста кодовые фразы становятся сильными триггерами. Более того, со временем эти «пароли» утрачивают связь с изначальным значением, «выпадают» из привычного языка. В результате их неестественное употребление само по себе становится заметным маркером, привлекающим нежелательное внимание посторонних глаз.
Государственный нарратив лжив, насильственен, ограничен и напоминает оруэлловское «двоемыслие». Противостоящая ему «тайнопись» друзей — начинение новым значением привычных слов и выражений — не только скудна, но и больше признаёт собственную пассивность и подчинённость, чем противостоит диктатуре. Более того, столкновение языков порождает болезненную мискоммуникацию, вызывает страх и смятение (шифр должен был если не избавить от них, то хотя бы смягчить — ценна возможность предупредить товарищей о беде) и ещё больше маргинализирует «носителей» иного языка.
Протестным может быть язык не только одиночки или малой группы, но и коллективный язык народа. Так, «молва» придумывала дегуманизирующие прозвища для врагов: «…кого в народе зовут сливоглотом: выскочка, пролаза, подонок без роду-племени, негодяй, шагающий по трупам, — всё это сливоглот. Диктатора тоже называли сливоглотом» [12]. Вообще бытовой фольклор — вероятно, единственное объединяющее народ оружие против тирана. Передаваемые устно слухи о болезнях диктатора напоминают нечто шаманское. Никто не верит слухам, все понимают, что это обман, порождаемый самой властью. И тем не менее народ активно передаёт домыслы, «словно каждый слух был заражён вирусом смерти, который в конце концов доберётся до диктатора. Рак легких, рак гортани, шептали мы, рак кишечника, размягчение мозга, паралич, белокровие» [13]. Здесь речь обретает почти магическое действие сглаза, проклятия.
Однако язык не всегда напрямую связан с противостоянием тоталитаризму. Так, друзья боятся довериться друг другу слишком сильно, боятся проникнуть в чужую душу слишком глубоко или допустить кого-то в свою. Поэтому в качестве самозащиты они придумывают «длинные, затейливые ругательства» [14]. Это «заклятия против чрезмерного сближения» [15], которые должны ранить и отдалить. Затем друзья быстро и легко мирятся, но продолжают неустанно следить за соблюдением дистанции. Здесь нет протеста против режима. Однако этот страх ближнего — результат бесчеловечных условий жизни, когда никому нельзя доверять. Об этом говорит стихотворение в эпиграфе, которое неоднократно будут повторять герои: «Друга каждый себе находил только в облачке на небе. / Может ли быть иначе, ведь мир этот страшен» [16].
Отчасти похож на книги летнего домика подаренный рассказчицей венгерке мешочек леденцов. Фрау Маргит попала в страну во время войны и уже не смогла вернуться на родину. Пожилая женщина «и не подумала его [мешочек — прим. С.Б.] открыть. Но всё снова и снова перечитывала уже знакомые слова на мешочке, как повесть о впустую прожитой жизни. Леденцы же не ела, потому что во рту они исчезли бы навеки» [17]. Так, родной язык, лишь в отдельных экспрессивных фразах прокрадывающийся в настоящее, остаётся нетленным памятником прошлого и призрачным фантомом неслучившегося будущего. Это напоминание приносит боль, и тем не менее фрау Маргит безостановочно к нему возвращается. Такое же поведение увидим позднее у других героинь.
Некоторые языки «пусты» и ничего не выражают. Например, уже упомянутый язык пропаганды: «Лола подчеркнула в тощей брошюрке так много фраз, словно сама её рука, закрывая строчки, не давала ей уловить их смысл» [18]. Бессодержателен порой и язык Терезы. Он доведён до автоматизма, лишён рефлексии: «—Солдатики? Почему? Тереза ответила: —Такое у них название» [19], «Какие-то вопросы Тереза оставляла без ответа потому, что слишком много болтала. Из-за болтовни она упускала время, нужное ей на обдумывание ответов. Тереза не умела отвечать “не знаю”. В тех случаях, когда надо было сказать “не знаю”, она открывала рот и выпаливала что-нибудь совсем не относящееся к делу» [20].
А некоторые герои вовсе лишены языка. Одна из «городских сумасшедших» — глухонемая карлица. Её судьба трагична: она не может противостоять Лолиным мужчинам и всегда беременна: «Карлица не успевала убежать — она же не слышала, когда кто-то приближался. И закричать она не могла» [21].
Таким образом, в результате попытки описать травму Мюллер создаёт фрагментарный текст с разноуровневыми повторами и переплетающимися размытыми метафорами. Также роман сконструирован из ряда лингвистических «кодов». Однако несмотря на обращение ко множеству «языков», созданию «текучих» образов, постепенно растворяющихся в стремлении захватить всё, задача проговаривания травмы остаётся неразрешённой.
Во второй части статьи рассмотрю проблему субъектности и роль фотографии в запечатлении травматического опыта.
Примечания:
[1] Мюллер Г. Сердце-зверь / Пер. с нем. Г. Снежинской. СПб.: Амфора. ТИД Амфора, 2013. C. 40.
[2] Фрейд З. Человек по имени Моисей и монотеистическая религия / Пер. с нем. и примеч. Р.Ф. Додельцева; послесл. К.М. Долгова. М.: Наука, 1993. С. 82.
[3] Мюллер Г. Указ. соч. С. 20.
[4] Там же. С. 69.
[5] Там же. С. 94.
[6] Там же. С. 7, 255.
[7] Там же. С. 45.
[8] Там же. С. 54.
[9] Там же. С. 183.
[10] Там же. С. 89.
[11] Там же. С. 107.
[12] Там же. С. 58.
[13] Там же. С. 68.
[14] Там же. С. 82.
[15] Там же.
[16] Там же. С. 6.
[17] Там же. С. 152.
[18]Там же. С. 28.
[19] Там же. С. 118.
[20] Там же. С. 123.
[21] Там же. С. 47.
Материал подготовила Светлана Барцева
Редактировала Анна Ястребова
