"Литература факта" или не совсем?
Почему границы нон-фикшн на самом деле очень размыты.
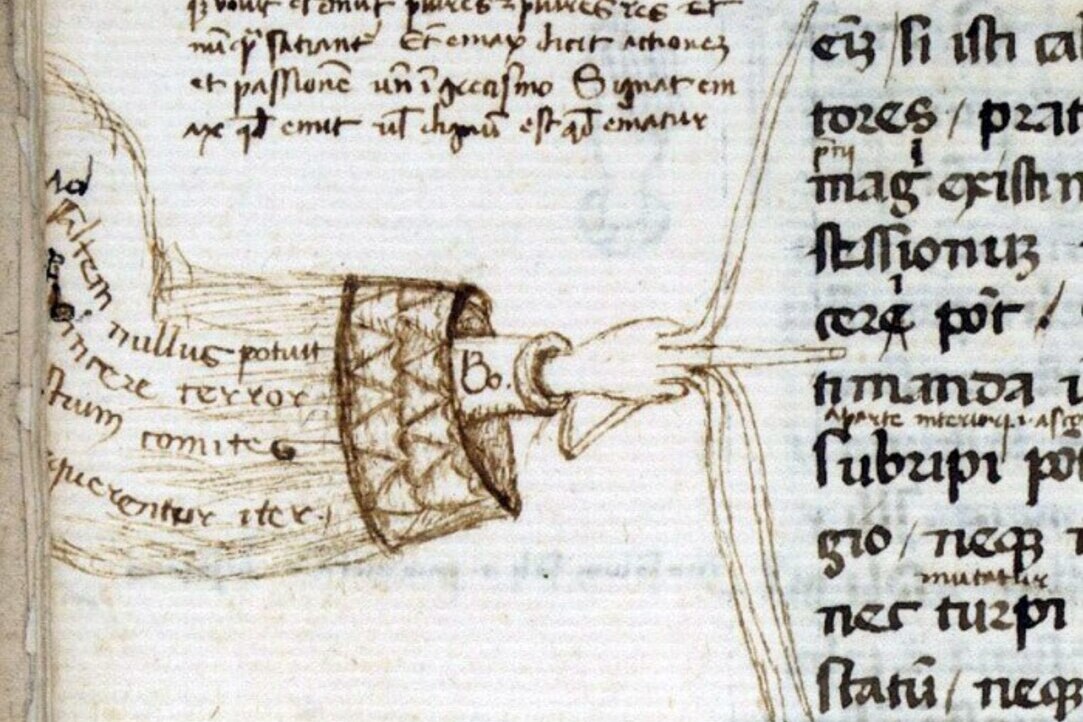
Имея дело с документальной литературой, читатель, скорее всего, предполагает, что изложенные автором события достоверны или хотя бы не противоречат действительному положению дел. В этом смысле положение жанра и история его развития выработали специфическое доверие между читателем и автором. Последний чаще всего выступает в роли эксперта в том, о чём он пишет. Однако что случится, если кто-то усомнится в фактологической точности документального жанра?
А ведь такое уже происходило, например, в ХХ веке с историографией. С распространением марксизма и классовой теории всё больше элементов бытовой и культурной жизни воспринимались как идеологически обусловленные. Одним из философов, на которых в начале карьеры значительно повлиял марксизм, был Вальтер Беньямин. В неоконченной работе «О понятии истории», или «Тезисы о философии истории», писавшейся в 1940 году, он утверждает, что современная ему историческая наука предвзята: автор исторического текста всегда встаёт на сторону доминирующей идеологии и защищает её [2]. Более того, Беньямин утверждает, что историки склонны к спекуляциям, необходимым для создания последовательного и цельного рассказа о прошлом: они заполняют пробелы истории своими суждениями, связывают все факты причинно-следственными связями, что искажает реальность.
Одним из самых заметных историков, разрабатывавших эту концепцию, оказался Хейден Уайт. В 1973 году была опубликована его книга «Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века», которая привлекла много внимания других историков и философов истории. В книге Уайт рассматривает исторический труд в первую очередь как письменный текст и нарратив. Он обращает внимание на то, что историографические работы обладают выраженными литературными чертами и как в процессе переработки прошлого в письменный текст о нём реальность трансформируется, пробелы заполняются, события согласуются, а автор выбирает подходящий для повествования тон. Уайт подходит к историческому тексту, как теоретики литературы подходят к художественному: разбирает его на коды и элементы поэтики, выделяет стилистические приёмы. Он даже использует литературоведческую терминологию, например, выделяет такие жанры исторических текстов, как романы, комедии, трагедии и сатиры [4].
Но что более важно для понимания не полностью объективной природы документального жанра, так это следующий тезис Уайта: факты, не находящиеся в зоне доступа «прямого наблюдения», могут быть истолкованы только посредством воображения. Это означает, что, если для фиксации в письменном виде того, что не происходит в эту секунду прямо у нас на глазах, мы вынуждены прибегать к процессам воображения, то нам не избежать искажений изначального материала.
Такие радикальные тезисы Уайта не могли не вызвать критики. Его обвиняли, в частности, в том, что он полностью стирает границу между былью и небылью, приравнивает вымышленное к реальному, ставит под сомнение наличие «голых фактов». Доходило даже до того, что некоторые историки (например, Карло Гинзбург) обвиняли Уайта в том, что его теоретический подход не позволяет доказать лживость исторических работ, отрицающих Холокост [1]. И хотя взгляды самого Уайта позднее стали менее радикальными, тезисы, выдвинутые в «Метаистории», кажется, никогда больше не позволят кому-либо с уверенностью утверждать, что история – это объективная наука.
Вернёмся немного назад – к утверждению, что для описания объектов и событий, находящихся вне зоны прямого наблюдения, необходимо использовать воображение. Помимо воображения нам приходится задействовать память и запускать процесс вспоминания. Несовершенства памяти чаще всего проявляются в другом документальном жанре – мемуарах. Лидия Гинзбург писала, что совпасть у разных мемуаристов могут разве что «чистые» факты: имена, даты, да и то если авторы наделены надёжной памятью. В остальном же всё будет зависеть от «угла обзора», то есть от пишущего субъекта и того, что он сохранил для себя от какого-либо события [3].
Любой записанный через годы или даже месяцы разговор обречен утратить точность формулировок, от которых может зависеть очень многое. События внешнего для субъекта мира не могут быть известны ему во всей полноте, он не может знать мотивацию каждого вовлеченного лица. Пробелы в знании и памяти заполняются процессами воображения. Несвязный и отрывочный текст может оказаться совершенно неподходящим для чтения, поэтому мемуаристы, как и историки, вынуждены компенсировать эти пробелы. Гинзбург вспоминает, насколько сильно отличаются беседы Толстого, записанные в конце его жизни толстовцами, и то, что мы можем прочитать в воспоминаниях Горького [3].
Мемуары и биографии, однако, рассчитаны на потенциального читателя, из-за чего автор прилагают усилия для составления целостного и законченного текста. Дневникам эта особенность повествования уже не свойственна. Даже если дневник публичен, как, например «Дневник писателя» Достоевского, он всё равно не является законченным нарративом. Дневниковые заметки пишутся последовательно, комментируя процесс, а не какой-то результат, чем больше напоминают хронику. В этом смысле с автора дневника снимается ответственность за цельность повествования, и, следовательно, ему можно в меньшей степени прибегать к процессам воображения для создания законченного текста. Но в то же время, синкретическая природа дневников позволяет включать в их структуру полностью вымышленные элементы. Их изначальная установка на субъективность также не способствует формированию доверия к написанному.
Получается, что документальная литература не всегда, или скорее никогда, не совпадает с реальностью полностью. Размытость границ между правдивым и выдуманным не позволяет с уверенностью говорить о каком-либо тексте как об однозначно достоверно репрезентирующем реальность. Даже оставляя в стороне литературные мистификации и намеренный обман, оказывается невозможно приравнять документальное к действительно бывшему.
Но если природа «литературы факта» не раз ставилась под сомнение, то зачем авторы обращаются к ней снова и снова? Почему она, несмотря на всю критику, производит такое же впечатление на читателя, как если бы он был уверен, что прочитанное – абсолютная истина? Попробовать ответить на этот вопрос можно только поэтически. Лидия Гинзбург писала, что искусство никогда не сможет передать подлинность переживаемого события, даже если подлинность эта лишь номинальная: «несколько строк газетной печати потрясают иначе, чем самый великий роман» [3]. Так, установка на абсолютную правдивость, свойственная только документальной литературе, оказывается важнее фактологической точности.
Варвара Стрельникова
Источники
- Ginzburg, Carlo. Threads and Traces: True, False, Fictive / translated by Anne C. Tedeschi and John Tedeschi. University of California Press, 2012. 238 p.
- Беньямин В. О понятии истории // Художественный журнал. – 1995. – № 7.
- Гинзбург Л.Я. О психологической прозе. – Ленинград: «Художественная литература» Ленинградское отделение, 1977. – 448 с.
- Уайт Х. Метаистория. Историческое воображение в Европе ⅩⅠⅩ века. / Перевод с англ. под редакцией Е.Г. Трубиной и В.В. Харитонова. – Екатеринбург: Издательство Уральского Университета, 2002. – 528 с.
Другие темы курса


